
Неомеркантилистский поворот: что нового?
Несколько лет неомеркантилистская мутация российского режима оставалась без должного внимания по той же причине, которая многие годы определяла отношение значительной части русскоязычных комментаторов к критике российского неолиберализма. “Да что общего российский режим имеет с либерализмом?!” – восклицали самые нетерпеливые на протяжении 2010-х, пока иные скептически отмалчивались или демонстративно избегали дискуссии. В противоположность мольеровскому Журдену, им очень не хотелось признавать, что вот уже более тридцати лет они говорят прозой.
Смешно и показательно, что о неолиберальной эпохе в России смелее заговорили совсем недавно, чтобы объявить о ее… завершении. Это в точности повторяет судьбу некоторых ключевых понятий из бушующих 1990-х, которые до сих пор используются с квалифицирующей характеристикой “российский”: российский средний класс, российская демократия… Таковым нередко отказывали в самом существовании, пока внезапно не признавали их еще недавно полными сил, цветущими – и вот уже безвозвратно утраченными. Часто такая переоценка приходилась на пик экономических кризисов, о чем особенно ярко свидетельствует история “среднего класса” в российских публичных дебатах.
У разных наблюдателей за подобным Verneinung скрываются различные мотивы и обстоятельства. Общая проблема становится очевидной, когда критический анализ те же наблюдатели без лишних колебаний замещают яркими эпитетами, предъявляя российскую политическую жизнь в виде диковинной фантасмагории, рифмованной с разнообразием авторских вкусов: “хтонь”, “вечная монархия”, “абсолютная диктатура”, “глубинный фашизм”…
В обобщениях все еще есть смысл. Просто, несмотря на очевидный поворот последнего десятилетия к журналистике факта, сочные метафоры диктаторского безумия и нескончаемой антиутопии по-прежнему привлекают комментаторов более острым и скорым наслаждением, нежели тщательнее выверенные понятия из арсенала социологии и политэкономии.
Сигналом, который сфокусировал медийное внимание на новом российском меркантилизме, – и здесь история вновь повторяется – стали события по другую сторону Атлантики. С начала 2025 года американские журналисты все чаще характеризовали трамповское правление как неомеркантилистское, в первую очередь отсылая к заоблачным импортным пошлинам, вводимым новой администрацией. Справедливости ради нужно отметить, что некоторые эксперты-экономисты по той же самой причине обращались к этой характеристике уже в первый срок Трампа. Под напором реалий второго срока понятие покинуло нишу экономического жаргона, генерируя ауру более масштабных обобщений.
Именно этот эффект позволил наиболее внимательным русскоязычным медиа задаться вопросом: если трампистская модель все больше походит на путинскую, возможно, дело не в гротескном “безумии” отдельных персон во власти, а в трендах мировой экономики и политики? Что содержательно сближает текущий американский режим с российским? Можно ли говорить об общих показателях? Есть ли критические различия? Журналисты и аналитики, знакомые с моими работами о переходе от неолиберального управлению к неомеркантилистскому, стали чаще обращаться за развернутым комментарием.
Назад к меркантилизму: американский вызов или мировой тренд?

Одной из первых на вызов времени отреагировала “Медуза”. В январе 2025 года Андрей Сергеев предложил ясно структурированный лонгрид о наступлении эры нового меркантилизма в США, России и мире, отлично распорядившись взятым у меня интервью. Если другой заочный участник этого диалога, Константин Сонин, оперировал классическим для экономики пониманием меркантилизма – как, в первую очередь, защиты национальных производителей и запретительных импортных пошлин – мой анализ вобрал более широкий спектр показателей, таких как возврат национальных правительств к накоплению золотых резервов, перевод защитных антикризисных мер в завоевательные и перехват неолиберальной политики управляемых неравенств, восходящей к концу 1970-х.

Летом 2025 года Денис Левен и Армен Арамян из “Доксы” записали важное интервью “Что объединяет Путина и Трампа? Неомеркантилизм“. Совместная работа над текстом доставила мне настоящее удовольствие, вызванное не только бережным обращением собеседников с авторским высказыванием. В интервью получилось емко и связно представить несколько ключевых показателей из разных сфер, соединив их в своего рода путевую карту, по которой яснее прослеживается международный сдвиг к меркантилистским практикам (там, где он действительно происходит). Фрагменты этой карты – опыты финансовой автаркии, использование суверенных фондов и золотого запаса в рентных экономиках и игра с сальдо внешнеторгового баланса. В глобальном масштабе мы обсудили отличительные признаки неомеркантилистских инструментов управления от неолиберальных и соприродность меркантилизма колониальным войнам. В целом, получилось удачно подсветить историческое напряжение между двумя порядками, восходящее к XVIII веку, а также уточнить, в какой момент капитализм стал ассоциироваться с либерализмом. В текущих (как, впрочем, и в давних) дискуссиях эта ось по-настоящему большой игры часто оказывается в тени излишне размашистого противопоставления демократии и авторитаризма.

В следующем интервью моих собеседников из издания “Черта” интересовало, как война превращается в бизнес и кто становится ее бенефициарами (короткий ответ: не только Путин). Редакция предложила интригующий заход на тему: если в стране создается военная экономика, для чего РЖД и другие окологосударственные игроки затевают масштабные, порой несбыточные и явно избыточные по затратам инвестпроекты? Это позволило внимательнее рассмотреть, как работает нелиберальный рынок госмонополий и олигополий в условиях меркантилистской централизации. Мы обсудили, зачем вагоны РЖД переоборудуются биотуалетами, кто застраивает оккупированные украинские города и какие семейные ценности исторически относятся к числу традиционных. Сквозной тезис публикации: военная экономика не отменяет игры коммерческих интересов и даже поощряет их, по мере выбытия с рынка малых и средних игроков. Обсудили мы и другой фундаментальный вопрос: как правительство устанавливает обменный курс жизни в рамках военного контракта и как тип этого контракта определяет политический режим.
Централизация, пропаганда, цена регресса
Еще прежде этих публикаций вышли два содержательно важных подкаста. Один из первых выпусков своей программы “Децентрализация” в декабре 2024 года Виталий Боварь и Юлия Галямина посвятили вопросу “Что такое неомеркантилизм?” В нем мы обсуждали далеко не только определения. Получилось удачно (в первом приближении) масштабировать меркантилистские практики на региональный уровень и обсудить, как они вписываются в дилеммы централизации и децентрализации управления страной. Как это бывает, диалог с собеседниками, у которых самим есть чем поделиться – прекрасная возможность уточнить свои идеи в новой перспективе. И этот подкаст не стал исключением.

Позже, на волне состоявшегося разговора, мы записали с Юлией Галяминой youtube-стрим “Деньги или власть – что выберет Путин?” Здесь в фокус беседы попали идеологические арканы режима, для расшифровки которых я использовал уже не масштаб трех мировых столетий, а более близкую историю XX века. Речь шла и о советском периоде – его экспериментах с границей между индивидуальным и коллективным, – и о послевоенной истории Западной Европы и США, в ходе которой экономическая рациональность превращается в новую коллективную идеологию. Выбор ракурса позволил, среди прочего, объяснить, на чем основана неомеркантилистская демография, и уточнить, как патриотизм служит росту производительности.
По мере выхода этих материалов появлялись публикации, на первый взгляд, лежащие в стороне от основной темы. Вектор интервью Андрею Архангельскому на “Радио Свобода” и Кате Ворониной для немецкоязычного издания Die Wochenzeitung задали практики пропаганды, цензуры и гражданского сопротивления, а также – и это не менее важно – опережающей самоцензуры и низовых запросов, которые обрабатывает кремлевская пропаганда, выстроенная по образцу маркетинговых кампаний. Сплетения цензуры и коммерции, милитаризации и условий интеллектуального труда, снова возвращали нас к вопросу о социальной цене нового меркантилизма. Одним из пунктов обсуждения стало растущее все военные годы потребление алкоголя и антидепрессантов. Другим – рыночная родословная нового традиционализма и его глашатаев.
В youtube-стриме с Игорем Клямкиным “Культура, рынок и госпатриотизм” мы со всей строгостью проэкзаменовали коммерциализацию государственного управления культурой, от Перестройки до наших дней. Достигнув отметки суверенности, этот растянувшийся на десятилетия марафон вовсе не отменил принуждения институтов культуры к коммерческой эффективности и рентабельности, которое задавало тон культурной политики в 2000-е и 2010-е. Эти же параметры вошли неотъемлемой частью в новый меркантилистский комплекс.
Колониальная война: Путин опережает Трампа
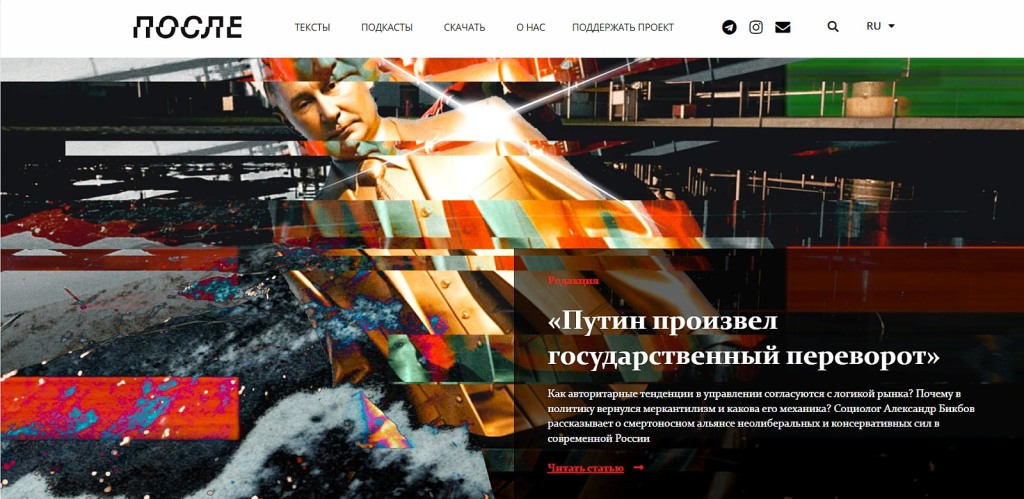
В целом, интерес к неомеркантилистскому повороту оказался прекрасным тестом на чувствительность передовых и новых медиа к едва намечающимся трендам. Продолжая обратное движение по шкале хронологии, отмечу один из первых медийных текстов, увидевших свет еще “до Трампа”. Он ясно отразил запрос редакции на реальность и дружелюбное внимание авангардного медиа к новаторской теории. Уже в июле 2024 года платформа “После” выпустила большое интервью на русском и английском языках, где я показал, как модель коммерческого суверенитета приобретает очертания в столь далеких, на первый взгляд, сферах как производственный менеджмент, военная мобилизация и принудительная русификация украинских детей. Я затронул запретную тему “бесполезного” (в глазах государственной бюрократии) населения, на которое война создает специфический спрос, напомнил о насильственном “импорте” детей из бывших французских колоний в недалекие 1960-80-е годы, и подробно разобрал родовое сходство Евгения Пригожина с фигурами генеральных откупщиков из французского XVIII века. В свете более свежих публикаций детали этого интервью звучат сегодня, наверно, даже понятнее и интереснее.
Завершу обратный отсчет подборкой текстов, которые замыкают ее лишь потому, что появились первыми. В них представлено ядро моей методологии, которая позволяет диагностировать сдвиг от неолиберализма к неомеркантилизму.
В 2022 году на международной исследовательской и экспертной платформе “Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa” вышло мое интервью на английском и итальянском языках о неомеркантилистском управлении неравенствами в военизируемой России и о формах гражданского сопротивления в новых условиях. В том же году итальянский журнал MicroMega опубликовал серию моих текстов с анализом российского неомеркантилизма, по понятным причинам не оставивших следа в русскоязычной дискуссии. Вслед за этим состоялось несколько важных публичных выступлений, включая лекцию в DAMS, знаменитом болонском факультете Умберто Эко, о сопротивлении и депрессии, а также на университетских и публичных площадках в Германии, в которых последовательно оттачивались инструменты анализа, объединившего социальные и экономические показатели. Доступна запись одного из выступлений на английском языке, о новом российском меркантилизме – пути, приведшем к войне.

Установочная на русском языке статья “Травма неомеркантилизма и задачи новой культуры“ появилась в начале 2023 года под обложкой резонансного сборника “Перед лицом катастрофы”. В ней я описал капитальный сдвиг, который происходит в социальной и идеологической экспертизе, с конца 1990-х втягивающий крайне правые идеи на площадки государственного управления. За статьей последовал доклад на Конгрессе французской Ассоциации политэкономии и интервью левому французскому изданию “lundimatin” – “Радиография российского государства“. В них я проанализировал перипетии российской экономической политики на протяжении последних двух десятилетий. Почти одновременно с этим русскоязычная служба RFI опубликовала мой исторический экскурс о трансформациях российского госкапитализма в широком географическом срезе и глубже, по кроличьей норе истории, – на фоне “мятежа” пригожинской ЧВК. А выходящий в России журнал “Горби” пригласил меня детализировать экономический и демографический сдвиг, который подчинил показатели эффективности требованиям суверенитета. Статья предлагает несколько ясных индикаторов перехода – и дает к ним красноречивые графики – которые наглядно иллюстрируют процесс.
Эти публикации описывают отход от неолиберальных форм управления по четырем ключевым показателям: замены в экспертном и руководящем составе госадминистрации, реформы госслужбы на уровне низового состава, поворот в управлении экономикой и мутация культурной политики. Они показывают, как российский режим, вовсе не отстающий и даже опережавший многие западные общества по скорости неолиберальной трансгрессии, снова оказывается в авангарде исторического сдвига – на сей раз курсом ультрасовременного меркантилизма, с искусственным интеллектом, радиоуправляемыми дронами и вездесущими инструментами “эффективности” на службе элит, которые действуют под наваждением “патриотических” фетишей: золотого изобилия, товарного импортозамещения, принудительной многодетности молчаливых подданных. Формула неособенного российского пути в глобальном контексте ясно произнесена. Остается самый важный пункт: как распорядиться этим знанием.
